Федор Достоевский: У нас — русских, — две родины: наша Русь и Европа
Манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0» вызвал бурную полемику в СМИ и соцсетях. Одна из его тем — «Россия и Европа» вдруг оказалась столь же болезненно обсуждаемой, как и во времена исторических схваток «западников» и «славянофилов». Без Достоевского, 200-летие которого мы будем отмечать в ноябре этого года, в данном споре не обойтись. Поддержавший манифест Богомолова Дмитрий Быков считает, что размышления известного режиссера являются прямым продолжением мыслей Достоевского. «Что касается конкретно выраженных идей, выраженных в этом тексте, он (Богомолов — прим. ред.) недавно ставил «Бесов» и под это дело, видимо, очень много читал Достоевского», — говорит Быков. Так ли это? Свою точку зрения мы попросили высказать исследователя, который знает о Достоевском буквально все, — писателя и филолога Людмилу Сараскину.
Россия и Европа — лейтмотив публицистики Достоевского на протяжении двадцати его последних лет, насыщавшей полемические диалоги его романов. Достоевский-почвенник надеялся примирить противоречия России и Европы, мечтал о синтезе родной почвы и западной культуры.
Достоевский-почвенник надеялся примирить противоречия России и Европы, мечтал о синтезе родной почвы и западной культуры.
На протяжении веков Россия оставалась чуждой Европе — этот горький пушкинский вывод становится в первой половине 60-х годов XIX века базовой исторической аксиомой для выработки идеологии почвенничества.
Пушкин не пророчил, а провидел истинную причину всегдашней нелюбви Европы к России — она и в XX веке сделает с европейским нашествием то же самое, что сделала в веке 19-м.
Достоевский продолжает мысль поэта: «Европа нас постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не могла не признать только одного: нашу силу…».
Таинственный смысл истории, связь прошлого и будущего, роль России в судьбе Европы — центральное интеллектуальное переживание старших современников Достоевского. В начале 30-х годов Н.В. Гоголь был одержим мыслью, что он «создан историком и призван к преподаванию судеб человечества».
Достоевский призывает не смешивать служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе тех русских, кто добровольно и брюзгливо покинул отечество
О том же говорил и А.И. Герцен десятилетие спустя: «История поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, — мы, как Янус, смотрим вперед».
Начало 1860-х — время возвращения в европейскую Россию после сибирской каторги и ссылки — Достоевский воспринимает еще и как финал Петровских реформ. «Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена… Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни».
Русские убедились, наконец, считал Достоевский, что они тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и вернулись на родную почву не побежденными. Они поняли, что не следует отделяться китайской стеной от человечества, что русская идея может стать синтезом всех тех идей, которые развивает Европа в отдельных своих национальностях. «Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых».
Они поняли, что не следует отделяться китайской стеной от человечества, что русская идея может стать синтезом всех тех идей, которые развивает Европа в отдельных своих национальностях. «Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых».
В 1862 году Достоевский впервые в жизни оказался за границей и путешествовал по городам Европы два с половиной месяца. Дорогого стоит его признание в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства… Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок».
Достоевский называет Европу страной долгих томлений, ожиданий и упорных верований, страной, о который он бесплодно мечтал почти сорок лет, а в шестнадцать хотел даже бежать в страну святых чудес. Почему Европа имеет на русских, кто бы они ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? — восклицает он. Вопрос риторический. «Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась».
Почему Европа имеет на русских, кто бы они ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? — восклицает он. Вопрос риторический. «Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась».
Смог ли кто-нибудь из образованных русских устоять против этого влияния? Если нет, то как, при таких влияниях, русские окончательно не переродились в европейцев? «Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек!».
Образ «страны святых чудес», при всех разочарованиях и обманутых надеждах, не померк в сознании Достоевского даже в самые тяжелые времена русско-турецкой войны, когда Европа жестко противостояла русским интересам и русской армии на Востоке. «У нас — русских, — писал Достоевский в «Дневнике писателя за 1876 год», — две родины: наша Русь и Европа… Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству».
«У нас — русских, — писал Достоевский в «Дневнике писателя за 1876 год», — две родины: наша Русь и Европа… Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству».
Он призывает не смешивать служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по Европе тех русских, кто добровольно и брюзгливо покинул отечество. Русским не стыдно по-настоящему любить Европу — ведь многое из того, что от нее взято и пересажено на родную почву, не копировалось рабски, а прививалось к своему организму, вживалось в плоть и кровь. «Всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс — роднее и понятнее русским, чем, например, немцам… Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах».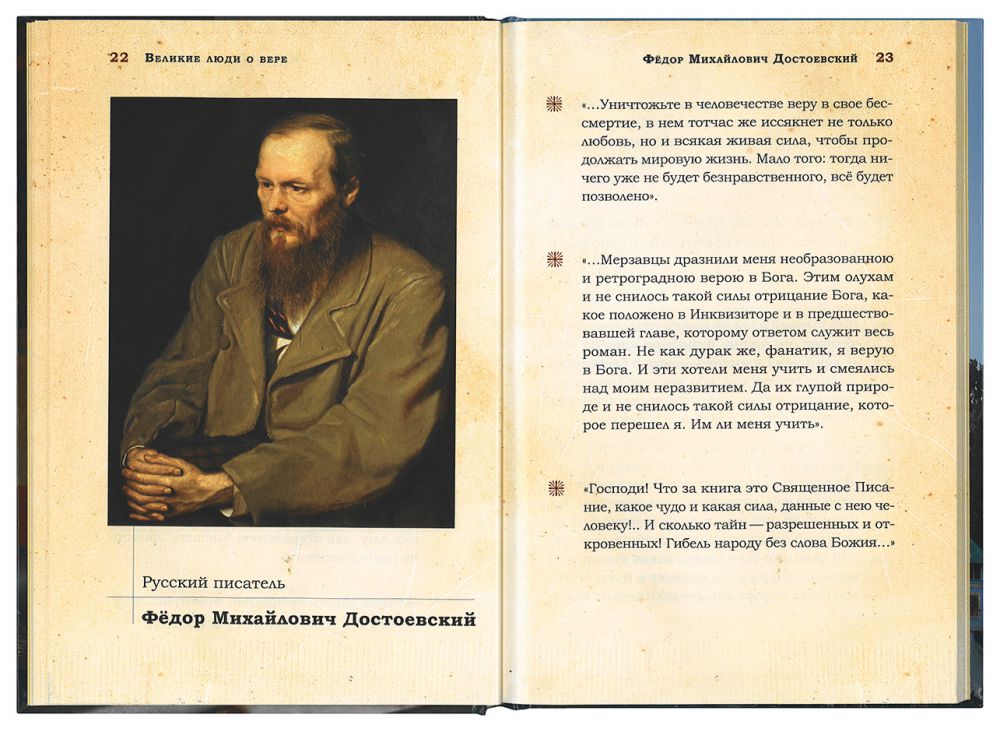
15 апреля 2019 года. Во Франции культурная трагедия: горит один из главных символов Парижа — собор Нотр-Дам. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса сказал: «Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Безусловно, собор не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах». Свои соболезнования французам высказали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В наших соцсетях шли непрерывные отклики на это событие, многие жители России восприняли это как личную утрату. Парижская трагедия объединила не только всю Европу, но и напомнила нам о вековых и неразрывных культурных связях России и Франции, России и Европы в целом. Федор Достоевский писал об этом более ста лет назад.
Достоевский множество раз горько сетовал на то, что Европа Россию не принимает и не любит.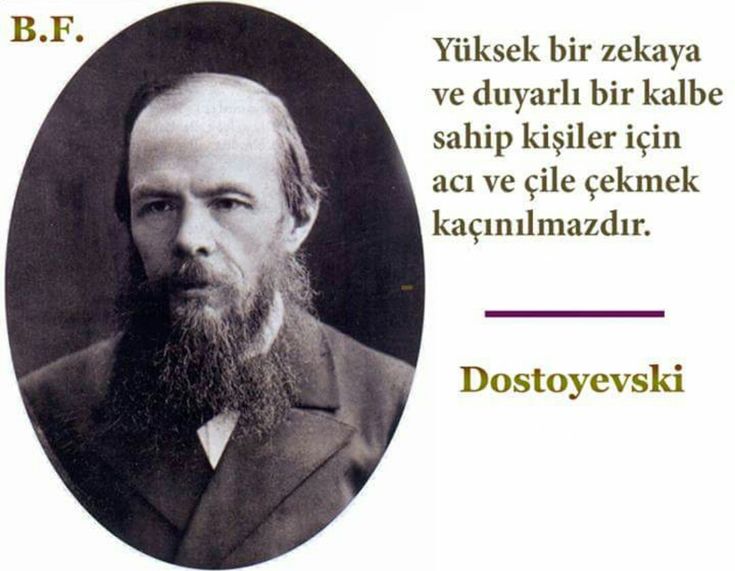 Это горечь была особенно сильной в разгар русско-турецкой кампании. Благородная цель войны, провозглашенная Россией, казалась Европе столь невероятной, что воспринималась как варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной лишь на низость и глупость. «Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия…».
Это горечь была особенно сильной в разгар русско-турецкой кампании. Благородная цель войны, провозглашенная Россией, казалась Европе столь невероятной, что воспринималась как варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной лишь на низость и глупость. «Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия…».
Достоевский вынужден признать: весь девятнадцатый век русских европейцев преследовала лакейская боязнь и постыдный страх прослыть в Европе азиатскими варварами. Во имя этого стыда и страха были допущены колоссальные ошибки, за которые русские поплатились утратой духовной самостоятельности. Неудачная европейская политика России вызвала у Европы еще бóльшую неприязнь к ней. «И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии «спасать царей», то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою».
«И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы то пугали ее силой, посылали туда наши армии «спасать царей», то склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтоб служить Европе и сделать ее счастливою».
Однако всякая попытка «осчастливить» Европу, освободив ее от очередного деспота и узурпатора, почему-то никому не приносила политического счастья. Так случилось даже и с освобождением Европы от Наполеона, от его, по Пушкину, «наглой воли»: «Все эти освобожденные нами народы, тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас с самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе всё, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, несмотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы столетия и даже доныне?».
Затем, несмотря на полученный урок, — что делали мы во все остальные годы столетия и даже доныне?».
Спустя полвека после Пушкина, Достоевский видит все те же причины европейской подозрительности и недоброжелательства. Подводя предварительные итоги русско-европейским отношениям, он признает русское поражение в европейской политике. «Кончилось тем, что теперь всякий в Европе… держит у себя за пазухой припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть!».
Россия, считает Достоевский, проиграла свою европейскую карту как раз из-за того, что так активно, себе во вред, не считаясь с собственными интересами, не понимая даже, в чем именно эти интересы состоят, бросалась в европейские распри, как в свое кровное дело. Это русское безрассудство только способствовало усилению тех, кто уже завтра готов был напасть на Россию.
Европа никак не смогла признать Россию своей, не признала за ней право участвовать наравне с европейскими державами в судьбе их общей цивилизации.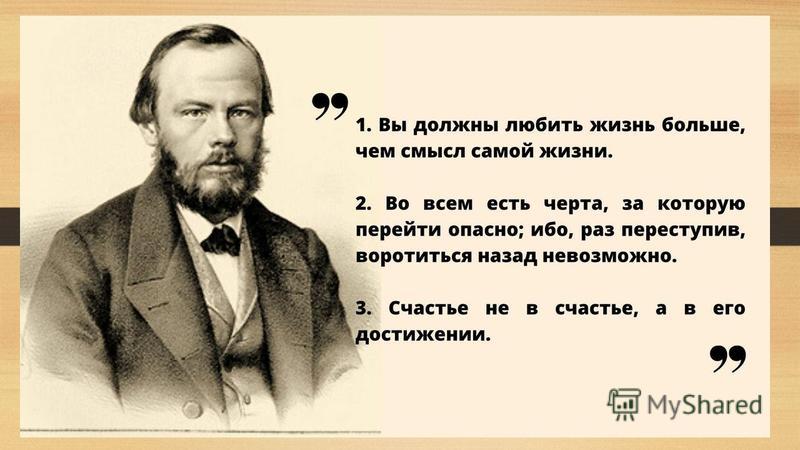 Европа считает русских пришельцами, самозванцами. «Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся… И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя и там бывают иногда с нами вежливы».
Европа считает русских пришельцами, самозванцами. «Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся… И наконец, мерзим мы ей, мерзим, даже лично, хотя и там бывают иногда с нами вежливы».
Не оставалось никаких иллюзий насчет вожделенного братства: какое братство, если Европа «своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себе как людей, как породу».
Достоевский: «И чего-чего мы не делали, чтоб Европа признала нас за своих, за европейцев, не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, напрашивались во все ее дела и делишки»
И тем не менее, несмотря ни на что, Россия, по мысли Достоевского, не должна отворачиваться совсем от Европы, тем более — от окна в Европу. Как свое политическое завещание произносит Достоевский поразительные слова в адрес Европы — поразительные и ошеломляющие, если учесть все минувшие войны, в которых Европа была для России или ненадежным союзником или коварным противником. «Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными».
То есть, такая мать, которая не любит и не уважает свое неразумное, навязчивое дитя, порой ненавидит и боится его, не доверяет ему, подозревает в дурных и злых намерениях, считает вором, ряженым, желает ему хиреть и слабеть, а при попытках нежностей с отвращением отворачивается.
Выходило, что привязанность России к Европе — страсть роковая, неотступная, безответная и всегда жертвенная. Мы сами, считал Достоевский, сделали для себя из Европы какой-то духовный Египет. Не пора ли позаботиться об исходе, перестав быть рабами и приживальщиками? Не пора ли собраться с мыслями, сосредоточиться на себе, жить своими внутренними интересами?
Кстати
В издательстве «Прогресс-Традиция» готовится к выходу новая книга Людмилы Сараскиной «Достоевский и предшественники: подлинное и мнимое в пространстве культуры».
Достоевский о Европе и Славянстве — преподобный Иустин (Попович), Челийский
преподобный Иустин (Попович), Челийский
Скачать
epub fb2 pdf
Новым исповедникам Православия: блаженнопочившему Тихону, Патриарху всея Руси Патриарху Сербскому с молитвенным благодарением посвящает автор.
Предисловие
Достоевский перед вечными проблемами Самый отчаявшийся среди отчаявшихся. Демонология (от человекомыши к человекобогу) Бунт 1. Неприятие мира 2. Неприятие Христа Идеологи и творцы нового человека 1. Иван Карамазов 2. Кириллов 3. Ставрогин 4. Раскольников Тайна атеистической философии и анархистской этики Достоевский – легион Православная теодицея – единственное решение вечных проблем Над тайной пшеничного зерна Философия любви и познания Наивысшая полнота жизни Тайна Европы Тайна России Тайна всеславянства и всечеловечества Тайна европейского человека и славянского всечеловека Достоевский – всечеловек
Предисловие
Начиная с моих пятнадцати лет Достоевский – мой учитель. Признаюсь – и мой мучитель. Уже тогда он увлек меня и покорил своей проблематикой. Я понял, что его проблемы – это вечные проблемы человеческого духа. И если человек называется человеком, то он должен ими заниматься. А Достоевский весь в этих проблемах, и поэтому во всех своих изысканиях он – настоящий человек. Его превосходство в том, что в вечные проблемы человеческого духа он внес вдохновение пророка, пламень апостола, искренность мученика, грусть философа, прозорливость поэта.
И если человек называется человеком, то он должен ими заниматься. А Достоевский весь в этих проблемах, и поэтому во всех своих изысканиях он – настоящий человек. Его превосходство в том, что в вечные проблемы человеческого духа он внес вдохновение пророка, пламень апостола, искренность мученика, грусть философа, прозорливость поэта.
В новые времена вечные проблемы человеческого духа ни у кого не нашли такого широкого, глубокого и всестороннего толкования, как у Достоевского. Через него говорили все муки человеческого существа, все его боли, все его надежды. Мало таких, кто как он переболел бы проблемами человеческого существа во всем их трагизме. Человек в бесконечной сложности своей натуры – самое трагичное существо во всех мирах, где вращается человеческая мысль и человеческие чувствования.
В Европе не было ни такого мыслителя, ни такого философа, ни такого поэта, которые так сильно и всесторонне, как Достоевский, ощутили бы величественную драму и страшную трагедию европейского человека и всех его завоеваний.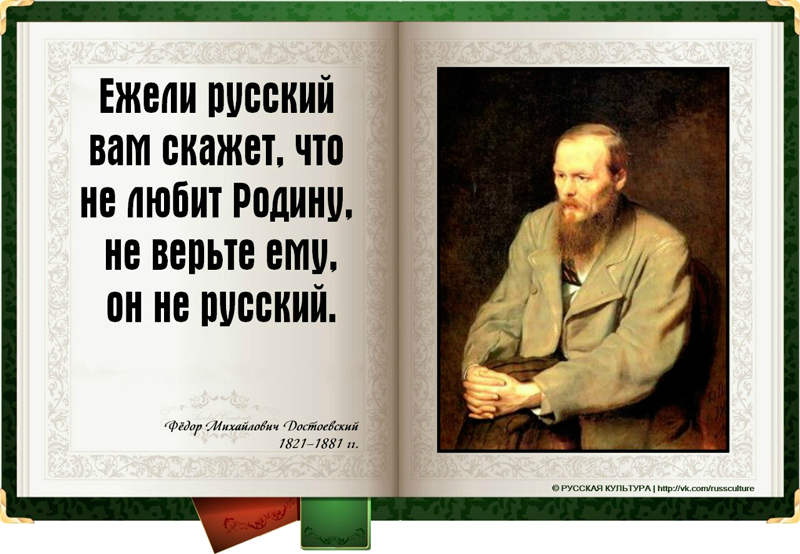 Ему до тонкостей знакомы не только Евангелие, но и апокалипсис европейского человека. Апокалипсис со всеми его безднами, страхами и ужасами. Если на нашей планете есть что-то страшнее самого страшного, то это, без сомнения, апокалипсис европейца. Достоевский его поэтически предчувствовал и пророчески предсказал, а мы в него уже вошли. Очевидно, что этот апокалипсис наступил, т.к. все приобретения людей Европы потихоньку уже обволакиваются апокалиптическими страхами и невиданными ужасами.
Ему до тонкостей знакомы не только Евангелие, но и апокалипсис европейского человека. Апокалипсис со всеми его безднами, страхами и ужасами. Если на нашей планете есть что-то страшнее самого страшного, то это, без сомнения, апокалипсис европейца. Достоевский его поэтически предчувствовал и пророчески предсказал, а мы в него уже вошли. Очевидно, что этот апокалипсис наступил, т.к. все приобретения людей Европы потихоньку уже обволакиваются апокалиптическими страхами и невиданными ужасами.
Потрясает агония европейской культуры, построенной на «непогрешимости» и самодостаточности европейского человека. Над апокалиптическими безднами его самоуничтожения все яснее и яснее видны очертания титанического лика печального пророка Европы – Достоевского. Его пророчества о Европе исполняются на наших глазах, и сердце обливается кровью.
Мы не говорим, как Лейбниц, что наш земной мир – лучший из миров, но мы уверены в одном: наш земной мир – самый загадочный из всех миров. И в этом удивительном, загадочном мире самое загадочное существо – человек: его падения и взлеты, его зло и добро, его диавол и Бог.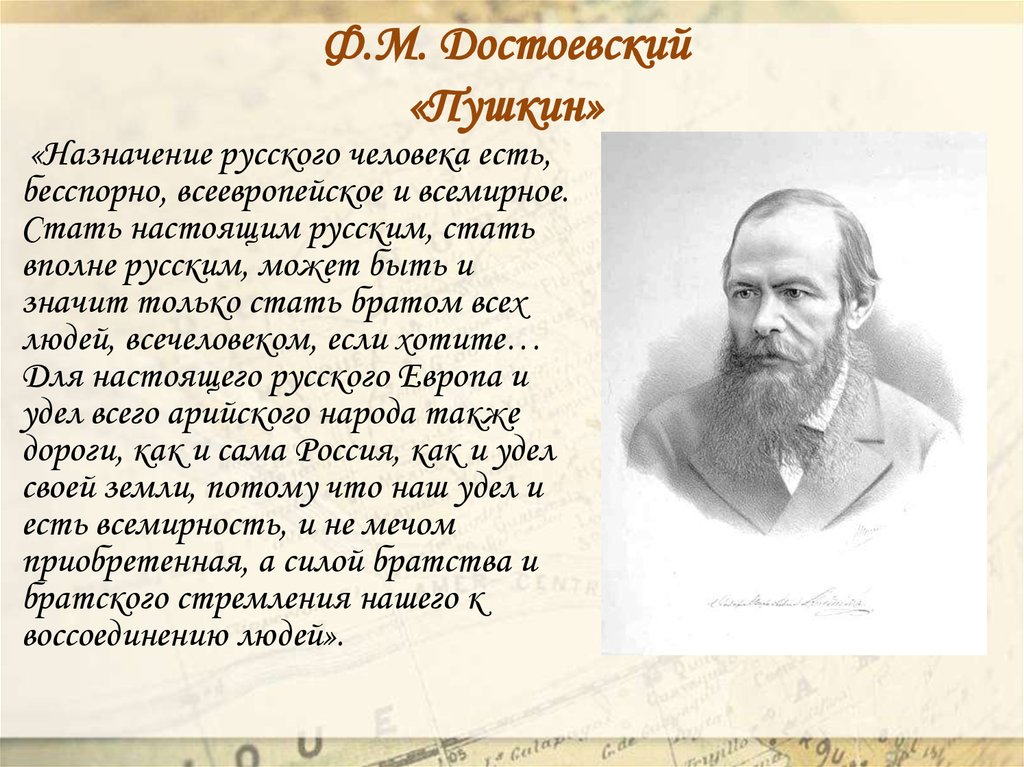
Д-р Иустин Попович, Видов день, 1940 год1
* * *
1
Видов день 1528 июня, – праздник св. вмч. царя Лазаря и всех святых сербских мучеников, павших на Косовом поле в 1389 году в битве с турками. (Прим. перев.)
Достоевский в Европе – Блогеры Карамазов
Химадри Чаттерджи
Среди многих вещей в жизни, которые я совершенно не могу объяснить, это огромное влечение, которое я испытываю к произведениям Достоевского. Когда мне перечисляют его многочисленные недостатки, я мало что могу сделать, кроме как кивать в знак согласия. Да, его романы истеричны, иррациональны — он как будто восхвалял иррациональность; они свободно структурированные мешковатые монстры. Он тоже был ярым славянофилом, а я презираю национализм. Он был политически консервативен и яростно ненавидел либерализм и либералов, в то время как я склонен описывать свою политику как «либеральную». (Действительно, меня позабавило, что недавно я описал свою политику в своем профиле на Facebook как «тургеневский либерал». в том, что, по-видимому, было моей собственной шуткой, и решил не менять ее.) Достоевский ненавидел таких русских, как Тургенев, которые приняли ценности западного либерализма, и я не могу не видеть свою собственную приверженность этим же западным либеральным ценностям, несмотря на мое индийское происхождение, в качестве своего рода параллели (хотя, я полагаю, у меня есть оправдание тому, что я прожил большую часть своей жизни на Западе). Я подозреваю, что если бы Достоевский знал меня лично, он презирал бы меня и мои ценности. И, по праву, меня должен отталкивать и Достоевский, который отстаивал так много, чего я не делаю, и который так ненавидел то, что я делаю. И все же меня непреодолимо тянет к Достоевскому. Что, я полагаю, демонстрирует изречение Достоевского о том, что мы далеко не разумные существа, как нам нравится себя воображать.
Он был политически консервативен и яростно ненавидел либерализм и либералов, в то время как я склонен описывать свою политику как «либеральную». (Действительно, меня позабавило, что недавно я описал свою политику в своем профиле на Facebook как «тургеневский либерал». в том, что, по-видимому, было моей собственной шуткой, и решил не менять ее.) Достоевский ненавидел таких русских, как Тургенев, которые приняли ценности западного либерализма, и я не могу не видеть свою собственную приверженность этим же западным либеральным ценностям, несмотря на мое индийское происхождение, в качестве своего рода параллели (хотя, я полагаю, у меня есть оправдание тому, что я прожил большую часть своей жизни на Западе). Я подозреваю, что если бы Достоевский знал меня лично, он презирал бы меня и мои ценности. И, по праву, меня должен отталкивать и Достоевский, который отстаивал так много, чего я не делаю, и который так ненавидел то, что я делаю. И все же меня непреодолимо тянет к Достоевскому. Что, я полагаю, демонстрирует изречение Достоевского о том, что мы далеко не разумные существа, как нам нравится себя воображать.
Достоевский, конечно, не всегда был правым славянофилом. В юности он действительно был очень левым. Он был членом революционной группы, едва избежал смертного приговора (известно, что его вывели на казнь до того, как было объявлено о смягчении приговора), и много лет отсидел в трудовом лагере. Его ранние работы носили несколько сентиментальный характер, сосредотачиваясь на «бедных людях», на «оскорбленных и раненых» и оплакивая социальную несправедливость, причиняющую столько страданий. Но затем, в начале 1860-х годов, в его мировоззрении произошла глубокая перемена. Как говорит переводчик Кирилл Фицлион (Зиновьев) в предисловии к Зимние заметки о летних впечатлениях :
Его ранние романы нацелены на развлечение читателя; не колеблясь соображениями правдоподобия или психологической вероятности, они скользят по поверхности жизни, не останавливаясь, чтобы прощупать то, что происходит под ней; они избегают глубокого анализа, и им не хватает позднейшего Достоевского стремления примирить действия людей с их совестью, понимаемой в терминах духовной муки.

Летом 1862 года, в момент, который мы можем рассматривать как поворотный момент между ранними и поздними точками зрения Достоевского, Достоевский посетил Европу на несколько недель. Той зимой он написал о своих путешествиях в «Зимние заметки о летних впечатлениях », и здесь мы можем совершенно ясно увидеть, как обретают форму его зрелые мысли и идеи.
Запад был тем, на что указывали либералы, вроде ненавистного Тургенева: Россия должна искать спасения в либеральных ценностях Запада; взглянув на Запад и приняв его ценности, Россия, столь далекая от главных центров цивилизации, смогла бы, наконец, цивилизовать себя. Но у Достоевского ничего этого не было. Это не обязательно из-за его славянофильства: то, что он увидел за несколько недель, проведенных в Париже, и за неделю, проведенную в Лондоне, не подсказывало ему, к чему стремиться в рай. Что Россия не рай, он уже знал: но спасение не в подражании Западу.
Прежде чем углубиться во все это, он пишет предисловие, которому дает название «Вместо предисловия». Это чувство игривости проявляется на протяжении всей книги. Достоевский сразу говорит нам, что он ненадежный рассказчик. По его словам, он провел всего несколько недель в Лондоне и в Париже, и его взгляды основаны не только на ограниченном освещении, но также, без сомнения, во многих отношениях предвзяты и предвзяты. По мере того, как он продолжает расширять это, он, кажется, создает авторскую личность, которая может быть им самим, а может и не быть. Временами он как будто представляет себя одним из тех гоголевских гротесков, которые не могут перестать отвлекаться на всякие неуместности. Короче говоря, рассказчик, которого он представляет, — комический персонаж, первый из многих странных и ненадежных голосов, которые появляются и исчезают в повествовании его более поздних романов. Предоставление авторскому голосу такой персоны позволяет Достоевскому развивать свои идеи в неожиданных областях и исследовать мысли и концепции, которые могут показаться эксцентричными или причудливыми, но не обязательно давая этим идеям печать авторского одобрения.
Это чувство игривости проявляется на протяжении всей книги. Достоевский сразу говорит нам, что он ненадежный рассказчик. По его словам, он провел всего несколько недель в Лондоне и в Париже, и его взгляды основаны не только на ограниченном освещении, но также, без сомнения, во многих отношениях предвзяты и предвзяты. По мере того, как он продолжает расширять это, он, кажется, создает авторскую личность, которая может быть им самим, а может и не быть. Временами он как будто представляет себя одним из тех гоголевских гротесков, которые не могут перестать отвлекаться на всякие неуместности. Короче говоря, рассказчик, которого он представляет, — комический персонаж, первый из многих странных и ненадежных голосов, которые появляются и исчезают в повествовании его более поздних романов. Предоставление авторскому голосу такой персоны позволяет Достоевскому развивать свои идеи в неожиданных областях и исследовать мысли и концепции, которые могут показаться эксцентричными или причудливыми, но не обязательно давая этим идеям печать авторского одобрения.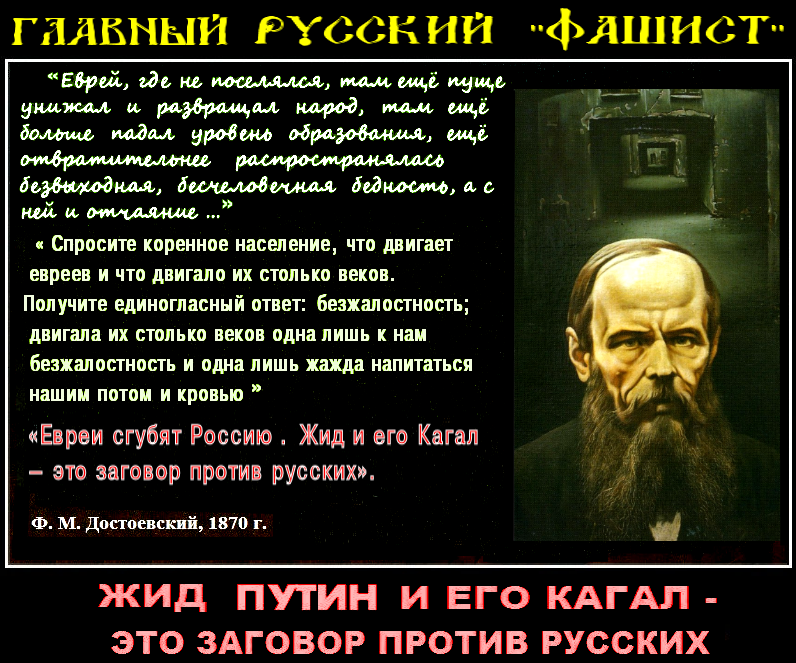
Он проводит некоторое время в Лондоне и представляет его почти в апокалиптических тонах. Он потрясен уровнем крайней бедности и порока. Это может показаться удивительным: как видно из его собственных романов, крайняя нищета и порок не совсем неизвестны в России. Но, возможно, он ожидал большего от Лондона. Я думаю, что его шокировало открытое принятие этих вещей. Он дает описание жалкой полуголодной молодой девушки-ребенка, открыто торгующей собой на Хеймаркете, прямо в центре фешенебельного Лондона. Англичан часто упрекают за лицемерие, но, похоже, это отсутствие лицемерия, открытость таких нравственных глубин, которые, казалось, особенно поражали Достоевского.
У него есть еще, что сказать о Франции, и, что довольно интересно, он, кажется, потрясен теми же самыми аспектами России, которые шокировали европейцев того времени — несвободой, преклонением перед императором, полицейскими осведомителями и тому подобным. И особенно он рассматривает средние классы, буржуазию.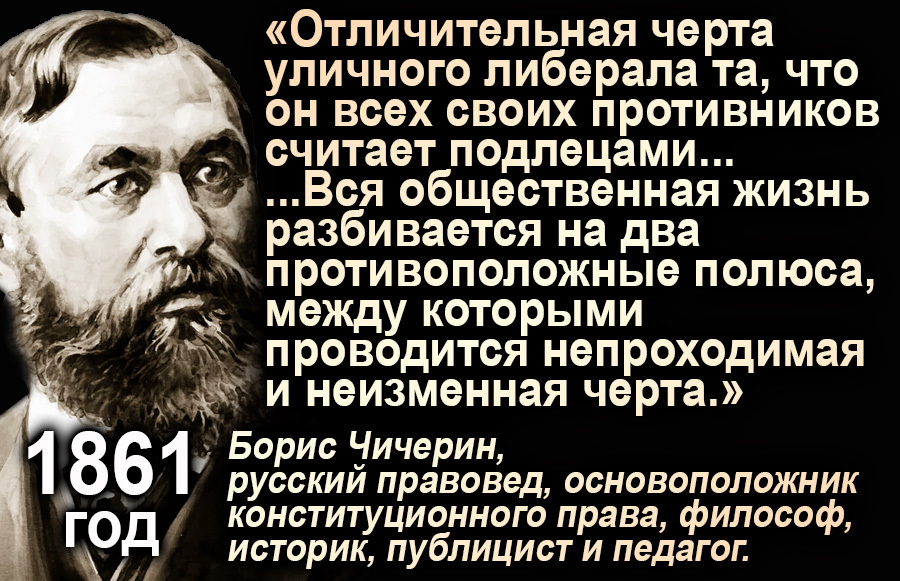 Воодушевляющие лозунги Французской революции — свобода, равенство, братство — являются, по его мнению, огромным обманом: все, что произошло, это то, что буржуазия теперь взяла на себя власть эксплуатировать низшие классы. Все идеалы, все нравы, которыми якобы живут люди, — обман:
Воодушевляющие лозунги Французской революции — свобода, равенство, братство — являются, по его мнению, огромным обманом: все, что произошло, это то, что буржуазия теперь взяла на себя власть эксплуатировать низшие классы. Все идеалы, все нравы, которыми якобы живут люди, — обман:
Пэрис неутолимо жаждет добродетели. Нынче француз — серьезный и надежный человек, часто мягкосердечный, так что я не могу понять, почему он и теперь так боится чего-то и боится этого, несмотря на всю gloire militaire, которая процветает во Франции и которую Жак Бономи столько платит. Парижанин горячо любит торговать, но даже когда он торгует и обдирает вас в своей лавке, он обдирает вас не ради наживы, как в прежние времена, а во имя добродетели, из какой-то святой необходимости. Накопить состояние и обладать как можно большим количеством вещей — это стало главным моральным кодексом парижанина, приравниваемым к религиозному соблюдению.
Достоевский продолжает допытываться: чего именно боятся буржуазии?
Кого тогда ему бояться? Рабочие? Но рабочие все тоже капиталисты, в глубине души: их единственный идеал — стать капиталистами и накопить как можно больше вещей.

Это не решение, чувствовал Достоевский, для России. Рациональные заповеди и благородные чувства – liberte , égalité , fraternité — в конечном итоге ничего не значит, и не только потому, что люди не являются рациональными существами: как он продолжает исследовать в Notes From Underground (который был написан вскоре после этой книги), люди, если уж на то пошло, анти- -рациональные существа, далекие от того, чтобы принять идеи, потому что они показаны как рациональные, скорее предпочли бы преднамеренно отвергнуть их, чтобы провозгласить свою свободу от тирании разума. Все, что он может видеть в больших городах Европы, — это «муравейники»: любая попытка сверху связать людей в единство обречена на катастрофический провал, потому что они неправильно понимают парадоксальную по своей сути природу человечества.
Я могу понять аргумент Достоевского — по крайней мере, до определенного момента. Наша жизнь, если уж на то пошло, в некоторых отношениях стала хуже: она стала «атомизированной» — если использовать слово, популяризированное названием романа Мишеля Уэльбека, — как никогда раньше. У нас нет не только fraternité между классами, солидарность даже внутри социальных классов становится все более проблематичной. Но я не очень понимаю, в чем состоит собственное решение Достоевского. Стоит ли ожидать мистического fraternité возникать спонтанно?
У нас нет не только fraternité между классами, солидарность даже внутри социальных классов становится все более проблематичной. Но я не очень понимаю, в чем состоит собственное решение Достоевского. Стоит ли ожидать мистического fraternité возникать спонтанно?
Конечно, Достоевский не был настолько глуп, чтобы так думать. Его романы не дидактические романы: это многоголосые произведения, в которых многие голоса восстают против своего автора и говорят против него без ответа; и где, кроме того, многие голоса, выражающие некоторые из самых глубоких убеждений Достоевского, представлены в нелепом свете. Эти великие романы — бурлящие котлы идей и контридей, бесконечно спорящих и смешивающихся друг с другом, никогда не разрешающихся; но никогда эти идеи не представляются чем-то абстрактным: они, как говорит Кирилл Фицлион (Зиновьев) в своем предисловии, «мыслятся в терминах душевной тоски».
Я до сих пор не знаю, почему меня так тянет к писаниям Достоевского, когда, с учетом всех обстоятельств, этого быть не должно. Но есть в этих очень странных его книгах что-то пророческое.
Но есть в этих очень странных его книгах что-то пророческое.
Первоначально этот пост был опубликован 17 апреля 2017 г. в блоге The Argumentative Old Git и был размещен здесь по приглашению. Оригинал поста можно найти здесь: Достоевский в Европе.
Все приведенные выше цитаты взяты из следующего перевода: Зимние заметки о летних впечатлениях Федора Достоевского в переводе Кирилла (Фицлиона) Зиновьева (Alma Classics, 2016).
Изображение на обложке представляет собой иллюстрацию Джаста Л’Эрно 1862 года, которая является общественным достоянием и доступна в коллекции цифровых изображений библиотеки Джона Хэя, Университет Брауна: Les Boulevards de Paris le Jour de l’An.
Химадри Чаттерджи — операционный аналитик, живет недалеко от Лондона и давно питает страсть к русской литературе, особенно к Достоевскому. В основном он ведет блог о книгах на своем сайте The Argumentative Old Git и его можно найти в Твиттере @hairygit.
Нравится:
Нравится Загрузка. ..
..
Достоевский За границей | Елена Мучник
Летом 1862 года Достоевский уехал на два с половиной месяца за границу, посетив Германию, Францию, Англию, Швейцарию и Италию. Его впечатления от путешествия появились в следующем феврале и марте в журнале, который после освобождения из Сибири он издавал вместе со своим братом Михаилом. Настоящий перевод Winter Notes был впервые сделан в 1955 и уже некоторое время не издается. Хорошо, что он снова доступен, потому что это небольшое занимательное произведение, хотя и незначительное, но важное как раннее изложение некоторых излюбленных концепций Достоевского и интересное как отличный образец его язвительного публицистического стиля.
Достоевский отправился, по его словам, полный больших ожиданий. Он с детства мечтал о Европе, и это было его первое путешествие. Однако почти с первого слова чувствуется ироническая горечь: «Могу ли я сказать что-нибудь оригинальное, что-нибудь еще неизвестное или не сказанное? Существует ли русский (то есть русский, читающий хотя бы журналы), который не знает Европу в два раза лучше, чем Россию? Я поставил «дважды» из вежливости; «десять раз» было бы точнее».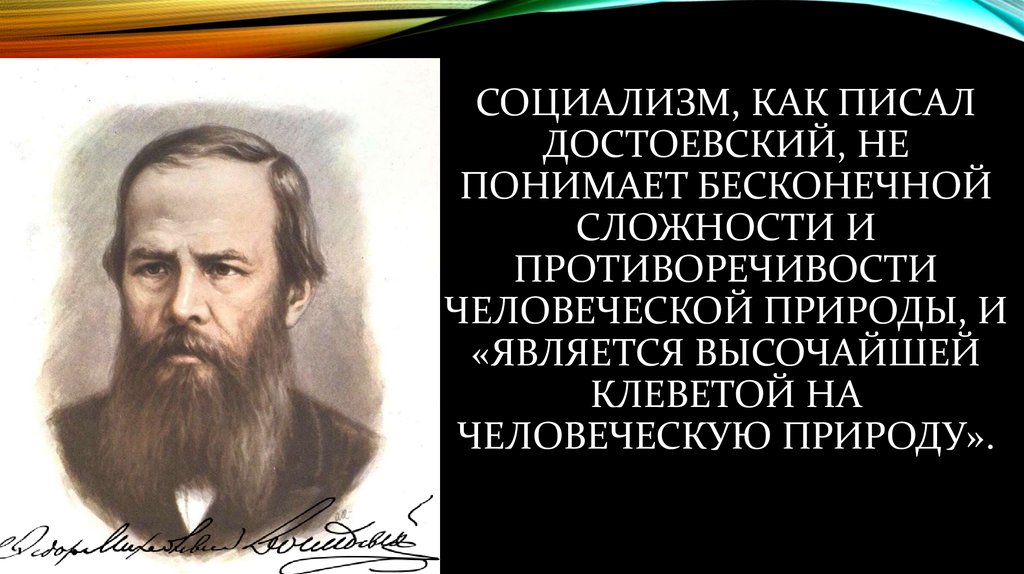 Большие надежды, очевидно, были окрашены злобой; и эта злоба основывалась на обиде на то, что Россия преклоняется перед Западом. Раньше русские были просто нелепы: «Мы надели шелковые чулки и парики и повесили на себя шпаги, и о чудо, мы были европейцами», а теперь «времена изменились…. Теперь мы созрели; мы полностью европейцы». А в длинной главе «Глава III. что совершенно лишнее», Достоевский ругает своих соотечественников не менее беспощадно, чем французов и англичан в остальных своих Примечания . Русские самодовольны, невежественны, банальны, равнодушны к достижениям своих художников; а они снобы: «Теперь мы так глубоко презираем народ и нашу национальную сущность, что относимся к ним с новой, небывалой брезгливостью… Это прогресс». Достоевский, конечно, обращается «по крайней мере к русскому, который читает журналы». (В этой связи наш переводчик упустил кое-что из преднамеренной грубости Достоевского. Высмеивая русских туристов, Достоевский изображает их глазеющими на мясистые обнаженные тела Рубенса: «Они смотрят на говядину Рубенса и верят, что это Три Грации, потому что так предписывает путеводитель.
Большие надежды, очевидно, были окрашены злобой; и эта злоба основывалась на обиде на то, что Россия преклоняется перед Западом. Раньше русские были просто нелепы: «Мы надели шелковые чулки и парики и повесили на себя шпаги, и о чудо, мы были европейцами», а теперь «времена изменились…. Теперь мы созрели; мы полностью европейцы». А в длинной главе «Глава III. что совершенно лишнее», Достоевский ругает своих соотечественников не менее беспощадно, чем французов и англичан в остальных своих Примечания . Русские самодовольны, невежественны, банальны, равнодушны к достижениям своих художников; а они снобы: «Теперь мы так глубоко презираем народ и нашу национальную сущность, что относимся к ним с новой, небывалой брезгливостью… Это прогресс». Достоевский, конечно, обращается «по крайней мере к русскому, который читает журналы». (В этой связи наш переводчик упустил кое-что из преднамеренной грубости Достоевского. Высмеивая русских туристов, Достоевский изображает их глазеющими на мясистые обнаженные тела Рубенса: «Они смотрят на говядину Рубенса и верят, что это Три Грации, потому что так предписывает путеводитель.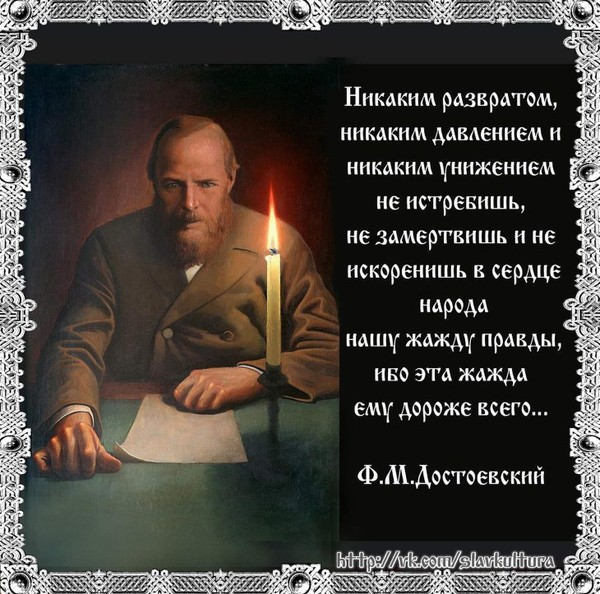
Справедливость — это не качество сатиры, и Зимние заметки не требуют беспристрастной картины Европы девятнадцатого века. Достоевский предвзят, «кислый, предвзятый, жестокий, несдержанный и своевольный», как совершенно справедливо описывает его Сол Беллоу в своем предисловии. Но важен уклон предвзятости Достоевского, объект его несдержанности и жестокости. При всем своем шовинизме — и это одна из самых непривлекательных его черт — Достоевский не совсем произволен; у него есть свои моральные причины ненавидеть Запад.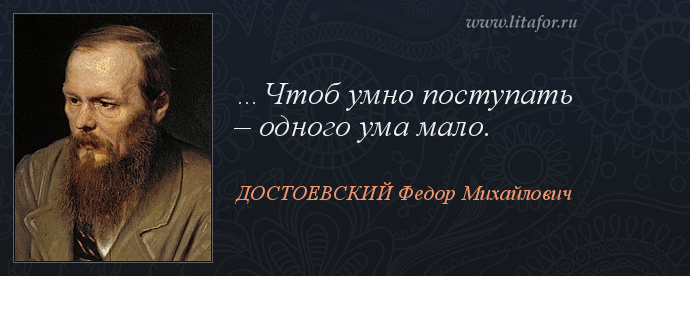
Зимние заметки в основном о Париже, с несколькими страницами, посвященными Лондону; другие города и страны, в которых побывал Достоевский, не фигурируют. В Париже, пишет он, «необходимо, чтобы все блестело добродетелью… Бесчисленные мужья гуляют рука об руку с бесчисленными супругами; вокруг них резвятся их милые, благовоспитанные детки; журчит фонтанчик, и его монотонный плеск напоминает о чем-то спокойном, тихом, вечном, постоянном».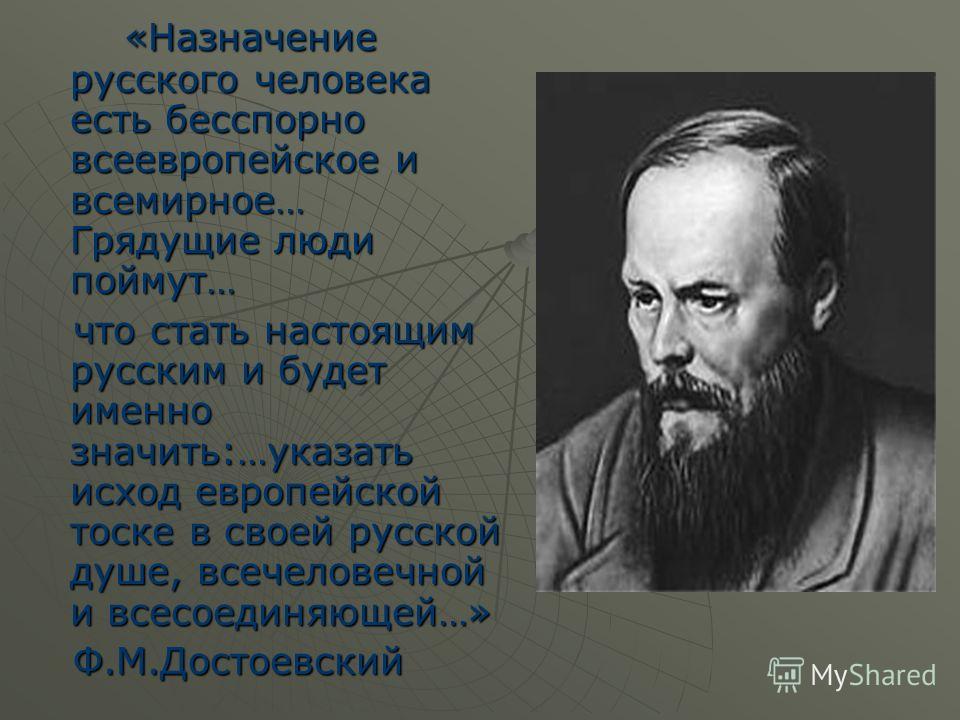
 Затем Гюстав принимает миллион, происходит бракосочетание, bribri и ma biche покидают театр в слезах, тронутые благородством Гюстава и растаявшие от видения того, как вскоре он и его Сесиль тоже будут прогуливаться рука об руку под журчание маленького фонтана. Приличия всегда соблюдаются. Везде и во всем господствуют порядок, приличия и благодушие. И это «не столько внешняя регуляция, которая не имеет никакого значения (относительно, конечно), сколько колоссальная, внутренняя и духовная регламентация, идущая от самой души».
Затем Гюстав принимает миллион, происходит бракосочетание, bribri и ma biche покидают театр в слезах, тронутые благородством Гюстава и растаявшие от видения того, как вскоре он и его Сесиль тоже будут прогуливаться рука об руку под журчание маленького фонтана. Приличия всегда соблюдаются. Везде и во всем господствуют порядок, приличия и благодушие. И это «не столько внешняя регуляция, которая не имеет никакого значения (относительно, конечно), сколько колоссальная, внутренняя и духовная регламентация, идущая от самой души».Реклама
Лондон хоть и внешне отличается от Парижа, но по сути тот же самый, с «такой же бешеной борьбой за сохранение статус-кво, вырвать из себя все свои желания и надежды… поклоняться Ваалу». В Лондоне есть Хрустальный дворец, международная выставка, на которую съезжаются миллионы людей, «смиренно стекающихся со всех концов земли». Зрелище грандиозное, и оно дает ощущение, «что что-то подошло к концу… как пророчество из Апокалипсиса, сбывшееся перед вашими глазами». Тем временем на многолюдном и кричащем Сенном рынке Достоевский встречает «маленькую девочку, не старше шести лет… грязную… в черных и синих пятнах». Она шла, «как будто не замечая окружающего… качала растрепанной головой из стороны в сторону, как бы обсуждая что-то, разводила ручонками, жестикулировала…», и на лице ее выражалось «безнадежное отчаяние».
Тем временем на многолюдном и кричащем Сенном рынке Достоевский встречает «маленькую девочку, не старше шести лет… грязную… в черных и синих пятнах». Она шла, «как будто не замечая окружающего… качала растрепанной головой из стороны в сторону, как бы обсуждая что-то, разводила ручонками, жестикулировала…», и на лице ее выражалось «безнадежное отчаяние».
Маленькая девочка, Хрустальный дворец, французская пародия на liberté, égalité, fraternité ( liberté возможен только для человека с миллионом, égalité просто оскорбление, а fraternité вид «братства», в котором каждый I отстаивает свои права) — все это должно было повториться не в западной, а в русской обстановке в последующих великих романах, начиная с «Записок из подполья» , которые были опубликовано в 1864 году, через 9 лет.0083 Зимние заметки . Стержнем критики Достоевского является возмущенное чувство несоответствия между внутренним и внешним человеком, между побуждениями и поступками, побуждениями и убеждениями, между сутью дела, каким бы оно ни было, и показным внешним. И это, а также многое другое, обсуждает Эдвард Васиолек в своей замечательной маленькой книге.
И это, а также многое другое, обсуждает Эдвард Васиолек в своей замечательной маленькой книге.
Достоевский: Большая проза выглядит как справочник. Его девять кратких глав в хронологическом порядке разделены на подразделы, посвященные какому-либо важному персонажу или теме романов: «Преступление и свобода», «Ипполит», «Ставрогин», «Смердяков» и т. д.; есть «Заметки о написании и публикации обсуждаемых основных работ»; есть раздел, посвященный «Биографическим данным», есть «Избранная библиография». И действительно, это — это справочник, но очень лучший справочник, который также является критическим трудом, написанным кратко, энергично и всегда по делу. Г-н Васиолек, профессор русской и сравнительной литературы в Чикагском университете, больше интересуется своим предметом, чем самим собой, что является редким качеством среди критиков Достоевского, которые умеют использовать Достоевского как предлог для выдвижения своих собственных философий. или показывая свою проницательность.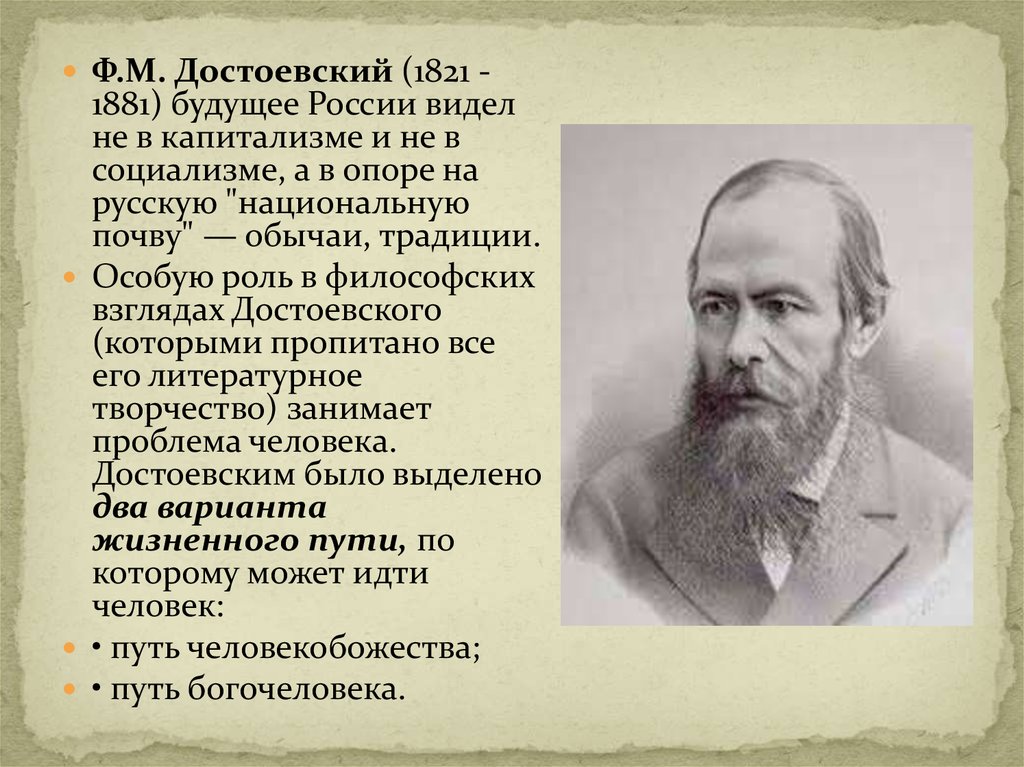 Не поддался он и символистскому вирусу, который в последнее время с эпидемией атакует критиков, заставляя их видеть в каждом произведении искусства, независимо от темперамента и намерений художника, сложную и более или менее механическую загадку. решается с помощью искусной детективной работы с целью обнаружения глубоко скрытых паттернов слов, цветов, событий или звуков, которые должны там быть. Г-н Васиолек действует более прямолинейно. Он хочет помочь читателю понять любопытное поведение «парадоксальных героев» Достоевского, объяснить, например, почему Человек из подполья мечтает о «добродетели и любви, когда он погряз в самом порочном пороке», почему Раскольников в Преступление и наказание , убийства за деньги и потом выбрасывание денег, почему Настасья Филипповна, в Идиот , ведет себя умышленно так, чтобы подтвердить клеветнические слухи о ней. Ответить на подобные вопросы — значит понять Достоевского, ибо, как показывает г. Васиолек, идеи Достоевского всегда проявляются в отношении к индивидуумам: в мире Достоевского «нет разума, есть только мыслители»; «ни одна идея, ни видение, ни условность» в этом мире «не могут быть абстрагированы».
Не поддался он и символистскому вирусу, который в последнее время с эпидемией атакует критиков, заставляя их видеть в каждом произведении искусства, независимо от темперамента и намерений художника, сложную и более или менее механическую загадку. решается с помощью искусной детективной работы с целью обнаружения глубоко скрытых паттернов слов, цветов, событий или звуков, которые должны там быть. Г-н Васиолек действует более прямолинейно. Он хочет помочь читателю понять любопытное поведение «парадоксальных героев» Достоевского, объяснить, например, почему Человек из подполья мечтает о «добродетели и любви, когда он погряз в самом порочном пороке», почему Раскольников в Преступление и наказание , убийства за деньги и потом выбрасывание денег, почему Настасья Филипповна, в Идиот , ведет себя умышленно так, чтобы подтвердить клеветнические слухи о ней. Ответить на подобные вопросы — значит понять Достоевского, ибо, как показывает г. Васиолек, идеи Достоевского всегда проявляются в отношении к индивидуумам: в мире Достоевского «нет разума, есть только мыслители»; «ни одна идея, ни видение, ни условность» в этом мире «не могут быть абстрагированы».
Реклама
Итак, г-н Васиолек освещает творений Достоевского серией анализов, всегда ясных и часто блестящих. Не всегда нужно с ним соглашаться. Я, например, истолковал бы Раскольникова, Ставрогина в «Бесы» , Катерину Ивановну в «Братья Карамазовы» несколько иначе; это не имеет значения. О таких замысловатых характерах должны быть разные мнения. Важно то, что через толкования г. Васиолека прослеживается развитие интуиций и верований Достоевского и еще раз оценивается разнообразие и тонкость, с которой он драматизирует «темные силы воли, лежащие в основе наших нравственных суждений», трагическую самость. — преодоление попыток утвердить абсолютную свободу, окольных путей, которыми «высшее благо может быть испорчено до глубочайшего зла». Очень настойчиво г-н Васиолек исправляет некоторые распространенные упрощения и заблуждения Достоевского, такие как «религия страдания», которую ему обычно приписывают, или идея «двойника», которая занимает центральное место в его творчестве. Страдание — не конец религиозного идеала Достоевского, хотя и ключ к нему; и «двойник — это не просто разрыв между «хорошей и плохой стороной» человека, не конфликт между «разумом» и «чувством»; это более сложная двойственность того, что люди» думают, что они , и что они на самом деле , ».
Страдание — не конец религиозного идеала Достоевского, хотя и ключ к нему; и «двойник — это не просто разрыв между «хорошей и плохой стороной» человека, не конфликт между «разумом» и «чувством»; это более сложная двойственность того, что люди» думают, что они , и что они на самом деле , ».
В этом различии и состоит суть как психологии Достоевского, так и его морали; что человек есть и что он думает он есть, что он отвергает и что он выбирает. «Человек в мире Достоевского не выбирает то, что уже определено, а определяет то, что он выбирает», и в этой диалектике «добро может быть избрано злом, а зло — добром». Основной выбор человека — это «цена его действия… для сам или для Бог », но «вера в Бога» в мире Достоевского может означать разное», так же как одни и те же заботы могут иметь разные мотивы, а одни и те же жесты могут иметь разное значение. «Иван [Карамазов] использует страдания детей как повод для бунта, Дмитрий — как признание своей ответственности».


